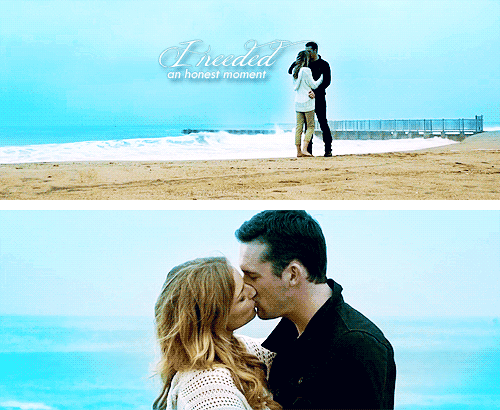В такие моменты особенно легко принять истину, что рано или поздно заканчивается всё: предложения, главы, спички, вредные — и хорошие тоже — привычки, грозы, спросы, чёрные полосы, проливные дожди; люди, прелюдии, плохие — да и хорошие тоже — концы, красивые лица, визы, чистые и непорочные души, долги... Этот список можно продолжать бесконечно, потому что не бывает ничего вечного: ни любви, ни радости, ни жизни до смерти, ни смерти, после томительной жизни; ни даже великого солнечного диска над нашими головами, ведь, — чтобы там не говорили учёные и наши толстые школьные книжки, — каждый божий вечер оно закатывается за горизонт, отмирает по клеточке, пачкает небесный свод своей стынущей алой кровью, а после и вовсе гаснет, отправившись погибать куда-то на тот самый край Земли, путешествием в страны которого клянутся все влюбленные лжецы, который воспевают молодые жрицы, который чёрт знает где таиться и тревожит человеческие умы. В такие моменты особенно легко понять любые истины, которые заведомо отрицал в своей обыденной, полной лишь серых лиц и шаблонных личностей, жизни.
Особенно нелегко абстрагироваться от ужасающе громкой, бурной и не теряющей остроты реальности, когда тебе нужно отчётливо расслышать сквозь бешеный ритм своего сердца, сквозь гневные крики нависшего над тобой призрака, сквозь боль, которая, кажется, приобретает какие-то особые, ранее не ведомые тебе, звуки, топот ног успевшего стать близким человека, бегущего куда-то в другой коридор, в темноту, в безопасную глушь какого-то неизвестного кабинета. Особенно сложно держать одними кончиками пальцев догорающую куртку, когда языки пламени начинают лизать твою плоть, пожирать, смаковать липнущую кровь, как самое дорогое вино, как пищу богов, как принесённое в жертву лакомство кому-то безумно разгневанному.
Но тяжелее всего не позволять самой себе бояться, поддаваясь искусным речам шепчущего на самое ухо совсем рядом страха, желающего увидеть тебя скорее мёртвой, чем живой, скорее напуганной, чем собранной и уверенной. В тоже время совсем легко казаться уверенной и решительно смотреть в чьи-то глаза, совсем легко ввязываться в какое-то дело, рисковать, спасать чужие жизни. Совсем легко не робеть, сдерживать смех и стискивать зубы, дабы не разрыдаться. Совсем легко терпеть, но ещё легче позволить себе сдаться.
И я сдалась, не найдя другого выхода, не найдя шестьсот семьдесят восьмого пункта в "Руководстве для начинающих", кратко повествующем о том, как спасать свои шкуры, вспомнив о том, что там всего-то десять пунктов, не рассчитав, не придумав, а бросив всё наутёк, на "авось, получиться!".
И сейчас мои лёгкие раздирает от жара, со лба градинами стекает пот, пальцы предательски дрожат и поддаются языкам пламени, а спина рассечена ловким штрихом канцелярских ножниц, предназначенных уж точно не для этого. А позади меня стоит Джим, и я слышу, как он с силой сжимает пальцы на поверхности ржавой трубы, как он дышит, слышу, как проникает каждая пылинка в его лёгкие, как они сжимаются и разжимаются, слышу каждый взмах его ресниц, этот странный шелест — слышу всё, и одновременно ничего не слышу. Я глохну, всё становиться чёрным и еле заметным. Мои пальцы предательски разжимаются и изуродованная ткань падает на самый пол — догорать. Меня пробирает зверская дрожь, и я понимаю, что если не найду себе ещё одну точку опоры, то провалюсь туда, откуда уже не подняться, я чувствую боль всем нутром, чувствую, как у меня сводит мышцы, суставы. Наверное, именно так и закончиться моя глава: «Она закрывает глаза, еле дышит и оседает на пол. Несколько секунд её тело ещё бьётся в агонии, судорожно хватается за жизнь, но все попытки восстановления заканчиваются ничем, ведь их прерывает последний удар в самое сердце.»
Мои губы шевелятся, повинуясь мотивам сердца, я говорю, говорю что-то быстро и громко, стараясь быть максимально сосредоточенной на шагах, на звуках, что позади меня. Я так хочу верить, что Джим не станет корчить из себя горе-героя, а просто поймёт и оставит меня, поймёт, что от меня сейчас никакого толку, впрочем, как и всегда. Я снова вляпалась в дерьмо по самые уши, и если не способна вытащить сама себя, то уже никто не вытащит. Бывало и хуже. Бывало в сто крат хуже. Но сейчас я скорее двумя ногами в могиле, скорее мертва, чем если бы шансов было пятьдесят на пятьдесят.
Кровоточащая рана, ссадины на руках, несколько синяков, разодранная рубаха и майка, порванный и потерянный рюкзак — отличный улов, Пэйни! Вот что ты получила в итоге, сунувшись сюда. Вот, что тебе достанется по пути на тот свет, вот всё, чем ты сможешь там хвастаться. И глядя на то, насколько же ты убога и отвратительна, ни один человек не захочет говорить с тобой о море или о закате — только о деньгах, машинах и шлюхах, потому что никто не поймёт, что ты способна на беседы о чём-то высоком. Это же просто смешно — умереть от заражения или недостатка крови. Это просто самая глупая смерть, после неудачного скольжения по заледенелой лужице где-то на Бейкер-стрит.
А потом всё происходит внезапно и слишком быстро, чтобы я успела словить нужный момент и запечатлеть его в своей памяти на тот случай, если я всё же выберусь отсюда живой, чтобы потом, в глубочайшей старости, до которой, как мне кажется, такими темпами я уж точно не протяну, рассказывать своим внукам, если таковые вообще будут. Именно в тот момент, когда Джим с элегантностью ёжика скользит трубой промеж невидимых рёбер незнакомой девушки, я искренне начинаю жалеть, что я не героиня какой-нибудь видеоигры и что прямо сейчас не включили слоу-моушен — настолько эпичным был этот знак искренней и чистой любви по отношению к полупрозрачным женщинам-хирургам, не получившим лицензии, что, не будь я настолько шокирована, пустила бы слезу. От раздирающего смеха, а не от горя, естественно.
Когда не задавшаяся сводная сестра самого заклятого врага Бэтмена рассыпается в прах, я просто пытаюсь перевести дыхание и ещё раз воспроизвести в памяти каждый кусочек этого временного отрезка, насыщенного событиями, подобрать хоть одно, пусть даже бранное, словечко, описывающее всё это так же ярко и красочно, как оно взрывалось в моей голове, но, не найдя оного, просто удивлённо пялилась на ту грязь, что осталась после своеобразной дамы.
— Дура ты, — наконец подаёт голос Джим, и я уже было спешу с ним согласиться, полагая, что это он обращается к теперь уже не материальному призраку, как бы тонко намекая на то, что связываться с самим Джимом Мать Его Айро — опасная вещь, ибо я не слыхала ещё ни одной истории, из которой этот тип не вышел бы сухим, но когда парень продолжил фразу и многозначительно посмотрел прямо в мои глаза, я тут же стиснула зубы и закатила глаза: — если думала, что так просто сможешь от меня избавиться.
Я хотела было сказать ему в ответ какую-то колкость, но все фразы, которые вились в голове, не казались мне похожими на собственное оправдание, похожими на отраву, состоящую из нескольких букв и пары строчек. Слова улетучились, я как будто бы стала немой.
— Так ладно, — пожалуй, не самая утешительная фраза, которую следует произнести, глядя на то, как твой друг истекает собственной кровью и только что пытался рискнуть своей жизнью во благо. Однако, мне всё равно нечего сказать, и я просто бегло оглядываю с ног до головы присевшего рядом со мной Айро, словно всё ещё пытаясь отойти от того, как моя жизнь внезапно дала добро на продолжение и милостиво уступила телеканалу "Задницам спастись" выпустить ещё пару-тройку серий со мной в главной роли.
— Сейчас будет, скорее всего, больно... — я недоверчиво смотрю на Джима, щуря глаза и словно пытаясь разгадать то, что он сейчас хочет сделать.
Добить? Осмотреть рану? Самого себя завалить? Господи, и почему в мою голову не придёт ни одного адекватного разрешения? Я уже устала кидаться хот-догами, прыгать от ржавых труб и выпрашивать у друга фляжку, полную святой воды! Это просто ужасно глупо и смешно! И почему меня ещё не сдали в психиатрическую клинику?
— ..но придётся потерпеть, — и тут я наконец понимаю, что на самом деле хочет сделать Джим. Но как только я протестующе взмахиваю руками, тем самым напоминая самой себе о том, что рана — не человек, и терпеть таких приступов мазохизма не будет, а начнёт болеть, и начинаю мотать головой, меня уже поднимают в воздух и следуют по заранее обговоренному маршруту — в процедурную, само собой.
— Джим, я.. Я могу.. Я сама... — растерянно тороторю я, но меня опять отказываются слушать и слышать. Поэтому, поняв, что собеседник просто нагло меня игнорирует, тяжело вздыхаю и закатываю глаза, бормоча не то проклятия, не то благодарности себе под нос, мысленно делая заметочку в своём, увы, уже утерянном блокноте: "Надавать люлей этому чёртовому супергерою Айро, как только выберемся," — и уже более мелким подчерком: "ну, или надавать люлей в Преисподней".
С одной стороны очень мило с его стороны взять меня на руки, а не поволочь за собой по всему коридору, сшибая мной углы и набивая заусенцы и новые ссадины моей и без того покалеченной спиной, но с другой, более странной, стороны это было слишком, ведь я не такая уж маленькая и беззащитная, чтобы не найти в себе мужества добрести до какого-то там по счёту кабинета, следуя прямо за его спиной. Хотя, чёрт подери, если бы не жгучая боль и отвратительное ощущение того, как кровь льётся прямо из тебя не то, чтобы рекой, но стремительным ручейком, я бы вдоволь смогла бы насладиться моментом, ощущая себя слабой, нуждающейся в поддержке и заботе кого-то. Ну, потом, когда рана бы была дезинфицирована, обработана и готова к тому, чтобы срастаться, я абсолютно точно надавала бы хорошеньких щей этому молодому человеку, припоминая потом это всю свою жизнь, и даже после, как любая другая женщина [если, конечно, она не фанатка Джима].
— А вот и процедурная.
Первое, что делает Айро, попав в нужную нам комнату, это любезно устраивает меня на одной из кушеток и судорожно пытается найти выход из положения.
Всё то время, пока он рассуждает вслух, я обыскиваю тумбочку, расположенную близ моего нового расположения, стискивая зубы и дыша глубже, чтобы потушить в себе приступы не то отчаяния, не то нахлынывающей боли, на предмет какого-нибудь антисептика, ваты или бинта, и своеобразных щипцов, способствующих нормальной обработке раны.
— ...единственному известному оружия я предпочёл тебя, — на этих словах я резко поворачиваюсь в сторону Джима и чувствую укол обиды, который, в связи с далеко не самыми традиционными обстоятельствами, сейчас ещё более ощутимо наполняет моё горло желчью, а грудь — яростным желанием закричать, предложив оставить сейчас меня и спасать только его задницу, как я и предлагала в самом начале, или порассуждать на тему: "сколько глупых решений я принял в жизни" вместе с несколькими зомби и тысячами призраков, кишащих в этой психиатрической клинике. А вообще мне просто хочется хоть куда-то выпустить все эмоции, которые бурлили во мне на протяжении...
А сколько мы уже проторчали здесь? Пару часов? Пару минут? Вечность? Всё происходило так быстро, стремительно, и в тоже время предательски тянуло за резину, наматывая на кулак минуты, как если бы это были часы. Я понимаю, абсолютно не представляю, сколько сейчас времени. И первым делом, как только мы доберёмся до машины, я брошу взгляд на часы, чтобы узнать, сколько времени утекло, пока мы спасали и подвергали опасностям свои жизни.
В размышлениях о коварности Кроноса я теряю прежнюю воинственность и желание впиться кому-нибудь в глотку, если он только посмеет хоть немного косо посмотреть на меня или вздохнуть слишком громко. Что ж, это к лучшему, наверное. Ссоры и междуусобицы нам не нужны, пока мы на территории этого паршивого заведения.
— ..сможешь ли ты спуститься по канату с третьего этажа.. — я с усмешкой смотрю на соратника, полагая, что это просто какая-то дурацкая шутка, но подмечая то, с какой серьёзностью он произносит этот бред, хмурюсь и действительно начинаю прикидывать шансы. — ..не выронила ли ты зажигалку?
— Амм, — я мгновенно сую руку в карман испорченной рубашки голубого цвета, морщась от покалывающих ощущений, и с облегчённо выдыхаю, вынимая предмет из самой глубины своеобразного тайничка, демонстрируя прямо перед глазами Айро: — Нет, не выронила. И да, надеюсь, что смогу. Только надо вязать как можно крепче и лезть первым тебе, чтобы в случае чего подстраховать, потому что я за самообладание над спазмами не ручаюсь. И не очень хочу, чтобы ты попачкал мой размазанный по асфальту труп, когда станешь спускаться, — я стараюсь говорить уверено и непринуждённо, как если бы давала вскидки на погоду на сегодняшний день, но внутри меня нарастает, пока ещё тихая и только щекочущая сознание, паника, ведь одно резкое движение — и наш импровизированный канат оборвётся, одно резкое движение, и "здравствуй асфальт, дай я тебя обниму всем своим телом, каждым органом и венами".
Мы больше не говорим друг другу ни слова, занимаясь скорыми сборами для вылазки на свободу: Джим перерывает каждый шкафчик, каждую тумбочку, что-то достаёт, что-то складывает в кучу, что-то убирает, что-то отметает в сторону, а я изучаю всё, что хоть мало-мальски, но находится близко к кушетке, которая ограничивает мои страдания.
Мне нужно остановить кровь. Мне нужно обработать рану. Хоть как-то. Хоть левой пяткой и через задницу, но я должна начать прокладывать путь к своему выздоровлению, ибо даже спустившись по канату, мне не судьба дожить до больницы, и я вряд ли сомневаюсь, что у Джима всё в порядке с аптечкой в машине, точнее, что там нет недостающих материалов, зная его тяготу к приключениям. Погубную тяготу. Впрочем, это наша с ним общая беда. Но плевать на философию, мне нужно спасать саму себя от заражения крови.
Я хватаю хлоргексидин и, за неимением лучшего, отрываю кусочек ткани от собственной рубашки, по которой, в скором времени, буду рыдать горючими кровавыми слезами, смачиваю её раствором и осторожно обрабатываю рану. Один раз у меня дёргается рука и я слишком сильно нажимаю на повреждённый участок кожи, и вскрикиваю. Затем быстро одёргиваю руку и зажмуриваю глаза, ожидая, когда боль утихнет. Когда из режущей и жгущей она переходит в пульсирующую, я, наконец, позволяю себе вздохнуть и открыть глаза и бросить взгляд на тот самый ящик, в который я заглянула. Надо сказать, очень даже не зря.
Потому что мой взгляд цепляет жёлтый край какого-то листка, торчащий прямо со дна ящика.
— Второе дно, — догадываюсь я.
Я уже не спешу поскорее обработать рану, чтобы помочь Джиму вязать узлы, как меня в детстве учил папа, а пытаюсь найти что-то, что поможет мне открыть дверь к истине, которая, как мне подсказывает знаменитая женская интуиция, окажется очень, и очень полезна. И я нахожу. Скальпель. Да, других вариантов нет, и я опускаю смоченную кровью ткань рубашки и хлоргексидин на столик, тянусь за необходимым мне предметом, и, с его помощью, вскрываю лже-дно. Затем резко дёргаю ручку ящика на себя, корчась от боли в спине, и затаскиваю его на кушетку прямо перед собой.
— Кажется, Джимми, — я нарочно называю его именно так, — ты всё же получишь премию.
































 Ну в общем да – любить буду. Даже проявлять это буду, а это уже дикий нонсенс, если честно.
Ну в общем да – любить буду. Даже проявлять это буду, а это уже дикий нонсенс, если честно.